Здравствуйте, уважаемые читатели блога “Кооперативы против бедности”!
Готовя новую статью о кооперативах и кооперации Северного края, вдруг понял, что статья Н.Ильинского “Северный край и его особенности” очень актуальна и в наше время, когда Правительство России уже практически 25 лет уничтожает экономику страны и продаёт энергетические и лесные ресурсы, землю за безценок иностранцам. Верю, что тебе, дорогой читатель будет интересно, как вдохновенно Н.Ильинский писал о будущем российского Севера. Советская власть, за годы своего управления государством, смогла сохранить культурное наследие Северного края и развить его экономическую мощь. А кооперативы сыграли в этом не последнюю роль.
Какие заслуги перед русским народом у российского современного капиталистического государства, и как оно обходится с Северным краем, можно найти в постоянно публикуемых статистических отчётах о сокращении населённых пунктов Севера, о сокращении школ, больниц, закрытие кубов, закрытие предприятий. Как следствие Северный край медленно, как и страна, умирает от той непомерно лживой идеологии о нравственности капитализма и его незаменимости в настоящих, скажем так, военных условиях жизни всего народа русского! Родину продолжают цивилизованно грабить иностранные трансатлантические корпорации под прикрытием либерально-преступного властного сообщества, так называемого в народе “ 5-й колонны”. Может ты, дорогой читатель думаешь, что здесь сгущаются краски. Хочу предложить для понимания вопроса о 5-й колонне высказывание Пол Робертса, помощника министра финансов США, инициатора и соавтора рейганомики:
Посмотрите ролик, который может прояснить некоторые вопросы о области управления государством:»Вице-премьер на шухере!».
Но ещё не вечер! Мы живём в удивительное время, когда медленно, под напором новой экономической и политической силы, рушиться англо-саксонская модель управления миром – могучим орудием которой был капитализм. Не сразу, но в недалёком будущем в России установиться новый, социально направленный, справедливый порядок новой политико-экономической формации. Например, такой “Артельно-кооперативное устройство как фактор новой формации –солидаризм”.
Теперь о Северном крае и его особенностях, которые отметил Н. Ильинский.
Эпиграф статьи, по моему мнению, может стать в сегодняшней России революционным лозунгом призывающим школьников, студентов, просто молодых людей и старшего поколения к глубокому изучению своей Родины, о которой мы все ещё так мало знаем!!!
«Знание своей родины есть сила, без которой и народный труд не может быть успешным».
Из программы по исследованию Сибири.
Северный край, как одна из окраин Русского государства, стал привлекать общественное и правительственное внимание пить с первой русской революцией 1905-6 г. Ранее о нем мало говорили, им не интересовались… да и сами северяне не обнаруживали достаточного любопытства и внимания к своей родине!
Революционная волна, прокатившаяся по России в самом начале текущего столетия, разбудила сознание северян, толкнула на путь искания своих материальных и духовных ценностей. Война с Германией и подоспевшая вторая русская революция ещё энергичнее заставила жителя Севера оглянуться кругом, встать, проснуться и посмотреть на себя: „Что ты был, и что стал, и что есть у тебя[1]? И вот оказалось прежде всего, что Северный край слишком велик, чтобы охватить его разом. Одна Архангельская губерния в 742.050 кв. вёрст превосходила Испанию, и немного уступала площади Италии. Неудивительно, что из первой выделился Александровский уезд (Кольский полуостров 130.210 кв. в.), близкий по территории к Дании (142.268 кв. в.), в особую Мурманскую губернию. Родная нам Вологодская губерния (353.349 кв. в.), превосходившая площадь целой Финляндии или Норвегии (325.641 кв. в.) ещё ранее должна была расщепиться на нынешнюю Вологодскую (с 5 юго-западными уездами+Каргопольский) и Севера-Двинскую (5 восточных уездов). Первая имеет 85 065 кв. вёрст и всё-таки превосходит, например, Швейцарию (41.435 кв. в.) вдвое, а последняя также оказалась для современности слишком громоздкой и превратилась истекшим летом сама в площадь, почти равную современной Вологодской (88.032 кв. в.) и Коми-область (Зырянская область), отнявшую ещё 199,780 кв. в. от бывшей Вологодской губернии. Таковы примерные масштабы нашего Севера, протянувшегося в общем от границ Карелии до Урала и от Белого моря до широты Вологды, площадью в общем значительно более миллиона кв. вёрст т. е. на 1/5 Европ. России.
Далее, при наступившем подъёме народно-хозяйственной жизни, громадная площадь Севера оказалась пустыней, в которой без усиленной и планомерной колонизации не возможны никакая культура, никакое использование природных богатств в виде ли леса или полезных ископаемых. Плотность населения[2] в б. Архангельской губернии показывается в 0,7, а для б. Вологодской в 4,7 (нынешнем 10,72), тогда как средняя плотность в России—30 человек; в Германии на ту же квадратную версту насчитывается 127,7 человек, в Англии 157,9 (без колоний), а в маленькой Бельгии—273 человека. Соседняя с нами Ярославская губерния, приобщившаяся давно к культурному миру—и та имеет плотность 41 человек (Московская с городами—122). Печальная история Ухтинского района в Яренском уезде с его 1,3 чел. на кв. версту показывает, как убийственно действует это безлюдье на нефтяное дело Севера.
В-третьих—безбрежный океан леса, угнетающе действует на возникающую культуру, особенно в малонаселённых восточных уездах. Этот лесной океан утопил в своей колючей зелени и ухтинскую нефть, и сысольские фосфориты и прочие рудные залежи на восток, до которых так трудно добраться среди непроходимых зырянских „парм“. Коренной и безраздельный хозяин центрального севера—лес.
Посмотрим цифры (по Фаасу): в б. Архангельской губ. —20.632.909 дес. или лесистость 71,41%, в б. Вологодской и Северо-Двинской губ. 26.733.519 дес. или лесистость 92,1%, в б. Олонецкой губ. 4.326.355 дес. или лесистость 64,4%, Сев. часть Пермской губ. 6.271.516 дес., или лесистость 81,18°/0, если прибавим сюда северные лесные части Ярославской, Костромской, Вятской, лежащие севернее широты г. Вологды (60°), то площадь лесов Севера превзойдёт полтораста миллионов десятин l65.080.000 дес., или составит более 80°/0 всех лесных богатств Европ. России. (Россия с Финляндией имеют 502 562.000 дес. или 45,2% от мирового запаса леса (1.111.511.000 дес.). Канада—206.460.000 д. или 26,7%, С.-Штаты—224.450.000 дес. или 20,2% от мир. запаса. Нынешняя Вологодская губ. леса имеет уже 5.664.565 дес. или лесистость 62%, (площадь в вес. Зологодской губ.—9.127.812 дес.). (См. ж. Народное Хозяйство, 15—16 1920 года т. Смирнова .Перспективы внешней торговли). По лесистости Север России занимает первое место и среди прочих европейских стран, так как наиболее лесистые скандинавские страны: Швеция и Норвегия имеют лeca 24.174 000 дес. (или 2,2% от мирового запаса), другой же конкурент Австро- Венгрия—19.581.000 дес. (или 1,7°/0 от мирового запаса).
Мы ещё молоды, так как живём в лесу; устаревшие народы умирают в пустыне. Однако, если лес—наше исключительное богатство, то форма эксплуатации его— указатель нашей малой культурности. Мы богаты и бедны в тоже время, так как (использование лесной древесины на Севере (два достигало 5 куб. футов с десятины или 1/10 от ежегодного прироста в 50 куб. фут. древесины на десятину леса. (В Швеции используется 52 куб. фут. с десятины лесной массы, в С.-А. Штатах 80 к. фут., в Канаде—32 куб. фут.). Правда северные лeca гибнут не мало от стихийных причин: пожаров, ветровала, заболачиванья, вредителей и т. д., но пока человек на Севере его самый ничтожный истребитель. А сколько же лесопильных заводов на Севере? спросит читатель. Их—43 отвечает статистика 1914 г. (теперь несколько единиц), В то же время менее, как видели, лесистые: Финляндия имела 460, Швеция—1000, Австро-Венгрия—1100. Известно ли читателю, как низко стоит вообще наше лесное хозяйство? Существует ли на Севере рациональная химическая обработка дерева? Постараемся ответить только одной иллюстрацией из нашей действительности. На пространстве Севера остаётся гнить ежегодно более 4 миллионов сосновых пней, так как наши смолокуры пользуются обычно подсочным лесом, пренебрегая остающимися от лесных заготовок пнями (я уже не говорю о валежнике, буреломе, остатках пожарищ—что абсолютно никуда не используется). Тогда как в Северной Америке для смолокурения употребляются одни пни, остающиеся от лесных вырубок. Это имеет не только экономическое значение, но и культурное, так как расчистка от пней позволяет освобождённую площадь использовать удобнее под пашню, уменьшает возможность пожаров, при расчистке кроме того убирается старый хлам из лесу, сокращается от чего, распространение лесных вредителей и т. д. Так делают американские смолокуры, а северный смолокур, понижая ценность своего леса ежегодно четырьмя миллионами гниющих пней, не докуривает в тоже время, по подсчётам хим. Токарского —1,360.000 пудов скипидару и 4.250.000 пудов смолы[3]). Так недостаточно используется наше исключительное богатство—лес—это первая статья в активе северного бюджета.
Четвертой особенностью Северного края оказалось бездорожье, отсутствие искусственных путей сообщения.
Протяжённость ж.-д. линий на Севере, лишённом до последних лёт технической помощи от государства едва достигает 1000 линейных вёрст, что в среднем на 1.000 кв. вёрст Севера даёт 1 линейную версту. По России же средняя длина ж.-д. линии на 1000 кв. вёрст=11 вёрст, для соседки нашей Ярославской губернии—12 в. (как и в Финляндии), в Германии=112 вёрст, во Франции=90 в., Австро-Венгрии=70 в, (данные 1914 г.). Относительно же водных путей дело обстоит ещё хуже; здесь нет вовсе почти искусственных сооружений и главная артерия Вологодского Севера Сухона, как бы оправдывая своё название обсохла, сокращая навигацию до 2 месяцев. Единственный канал Герцога Вюртембергского и плотина „Знаменитая” (сущ. с 1827 г.) ещё поддерживают воду в Кубинском озере — главном водохранилище Вологодского Севера. Остальные крупные реки или перерезаны переборами (Кубина, Онега), или заносятся песками (Вычегда) или наконец засорены „карчами* (ветровальными и оползшими с берегов деревьями), как Печора, Сысола, Мезень. Забытые каналы на Северо-Востоке, (Екатерининский, Мылвинский, Печоро-Камское соединение) давно не действуют. А между тем наши многочисленные и когда-то многоводные реки и речки служили с выгодой новгородским колонизаторам XI-XII в.в. Недостатки водных путей, единственных дешёвых способов транзита на Севере, не только сокращают, как видели, навигацию до 1—2 мес. (Сухона, Юг, Вага), но ограничивают сильно возможность передвижения сырых материалов, выдерживающих дешёвый фрахт, прекращают сплав брёвен, дров, «баланса» этих главных ресурсов края, что наносит громадные убытки народному хозяйству и тормозит всякое развитие товарообмена и промышленности. Ещё хуже обстоит дело с сухопутными способами транзита. Единственная ж.-д. линия, пересекающая Вологодский Север: Москва- Ярославлъ-Вологда-Архангельск очевидно недостаточна и после перешивки на широкую колею—для развития края. Что же касается до ж.-д. линии: Петроград -Вологда- Вятка-Пермь, то ведь она обслуживает одну южную окраину Севера, являясь в то же время тем Дантовым кругом, который отделяет Север, как потусторонний мир, от остального пространства Ев. России. Не только недостаток железных дорог, но полное отсутствие подъездных путей, шоссейных дорог, отчаянное состояние гужевого транспорта (нередко осенью прекращающегося вовсе) является почти непреодолимым тормозом, от которого зависит обособленность Севера в прошлом и трудность экономического развития его в настоящем. Слова Джона Уатта: „Дорожная карта страны—есть зеркало её благосостояния»—звучат для нас—Северян— пока что иронией!
Четыре особенности Севера перечислили мы: громадная площадь и безлюдье, обилие леса и бездорожье— характеризующие довольно ярко природу и жизнь пробудившейся окраины… И что же они дают нам в балансе северного хозяйства? Одно лишь обилие леса, и то относительно, можно отнести, если можно так выразиться, в актив Севера, а остальные три статьи составляют пассив его. Конечно, в период экономического пробуждения важно именно учесть все статьи бюджета, чтобы, сбалансировав спроектировать своё будущее… но этого недостаточно. Есть ещё один фактор, от которого зависит наш расчёт на экономическое развитие. Фактор этот—изучение всех ресурсов Севера, а главное его естественных богатств или, как нынче называют, производительных сил страны.
Поскольку мы будем осведомлены о них, поскольку их количественный, а не качественный состав будет выяснен— постольку мы уверенно пойдём к лучшему будущему. Однако, до последних дней мы знали и изучали наш Север слишком мало! До революции 1905—6 г., действительно, мы были преступно „нелюбопытны и ленивы», мы целыми годами спали на Севере непробудным сном: и под снежным саваном наших холодных зим, и под сенью мрачных и летом, безмолвных лесов, спали под глухие удары крупных осенних капель дождя, и даже весной чарующие белые ночи бессильны были разбудить нас. Весь Север спал 2 столетия (с Петра I), как дремала и вся провинциальная Россия, когда на Западе кипела уже культурная жизнь, когда наука и техника будили там людей, звали мощно вперёд к победе над властью слепой природы.
Вот примеры нашей северной отсталости от жизни запада и нашего невежества, задержавшего на столетие экономическое развитие Северного края.
В 1905 году на Севере существовало единственное Вологодское отделение Ярославского ест.-истор. общества, переименованное позднее (в 1909 г.) в самостоятельное Вологодское общество изучения Северного края (тогда же в 1909 г. возникло и Архангельское общество изучения Русского Севера). В то же время в соседней Финляндии таких «очагов родиноведения» было уже 30 (а площадь Финляндии, как видели в начале менее б. Вологодской губернии). В Швейцарии, вдвое меньшей современной Вологодской губернии—таких обществ насчитывалось в 1905 г.—50. Нисколько неудивительно, после этого следующее: когда директор Канадской опытной станции Саундерс попросил Бюро по прикладной Ботанике в СПБ.—выслать ему с Севера „скороспелую пшеницу², то последнее растерялось. Ответы на неоднократные запросы Бюро с Севера прийти не могли: ибо дать их было не кому! Пришлось запрашивать Саундерса самого—откуда он получил свои сведения о „скороспелой пшенице»? Каково было откровение для Бюро по прикладной Ботанике Д. З., когда выяснилось, что от своих агентов Саундерс получил эту пшеницу с берегов Онеги Архангельской губернии. Пшеница оказалась „константной (неизменяющейся), самой скороспелой в мире и весьма ценной в хозяйственном отношении»). (Саундерс скрещивал её с канадской пшеницей). Другой селекционист—парижский профессор Вильлпорен вывел „лапландскую расу» четырёхрядного ячменя, полученного опять же с Севера, и теперь широко распространённого в горных областях и засушливых частях Франции. Если прибавить сюда ещё харьковскую скороспелую пшеницу (для степных областей), выведенную также в Канаде и искренние слова американского профессора Гансена (штат Южная Дакота)— „Америка столько взяла от России, что вряд ли сможет отдать все“ (обращенные в 1914 г. к специалистам Д.З., ездившим в Америку для ознакомления с чудесами американского земледелия[4])—то станет ясным, как мало знаем мы свою родину. Не равносильно ли наше невежество с чудовищными, анекдотическими представлениями некоторых обывателей одной из русской столиц о северянах „устраивающих пикники под развесистой клюквой или прогуливающихся по улицам своих городов рядом с белыми медведями (не под- ручку ли?). Таковы обывательские представления и недавние познания о Севере в России. Очевидно, что единственный прочный фундамент нужно подвести под здание новой хозяйственной жизни на Севере—знание его природных условий, а для этого мы должны прежде всего изучить наш Север, перестающий уже быть угрюмым и безмолвным, скрывавшим ещё недавно свои тайны. Мы знаем: Север начал открывать учёным свои тайны; Он заговорил с исследователями последних лет, но он не сказан ещё последнего своего слова… Он должен это сделать: и Он скажет!
Н. Ильинский.
[1] Площадь Италии по данным 1914 г. равна 734.910 кв. кил., а Испании—717.237 кил. кв.
[2] Статистический Ежегодник России 1914 г. СПБ. 1915 г.
[3] См. Северное Хозяйство 1919 г. № 9.
[4] Печатается в дискуссионном порядке.
*Теперь она разводится на Вятской опытной станции. См. „Известия Архангельского Об-ва изучения Русского Севера» за 1909 г. № 1.
Друзья, не забываете нажимать на кнопочки социальных сетей! Благодарю!

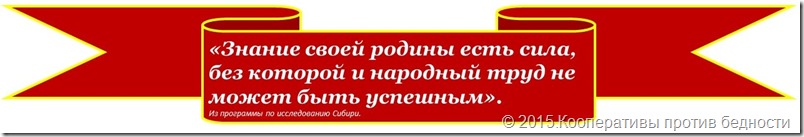
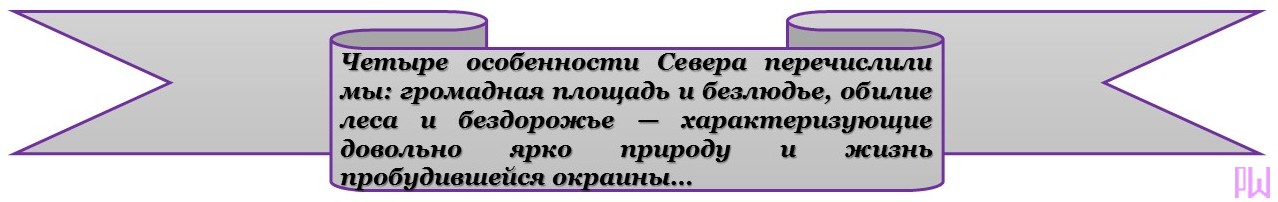



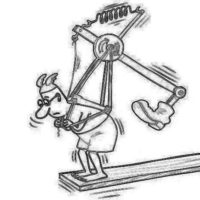








Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.